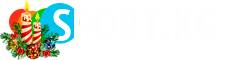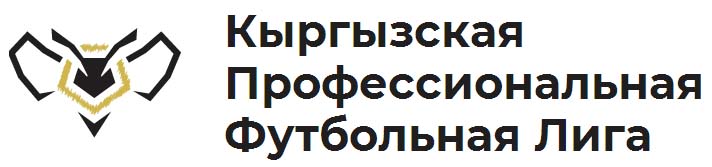Корреспондент «Ферганы» встретился с экс-чемпионом Рискиевым и попросил его поделиться своими воспоминаниями о славных годах молодости, взлетах и падениях, сопутствующих неординарным личностям. А главное – ответить на вопрос: какова она, цена победы, ради которой сорок лет назад парень из скромной ташкентской семьи рискнул сделать ставку на удачу, поспорив с самой судьбой.
Руфат Рискиев - двукратный чемпион Спартакиады народов СССР, четырехкратный чемпион Советского Союза, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР. Победитель международных турниров в США, Кубе, Австрии, Югославии, Испании. Кавалер орденов «Знак Почета», «Буюк хизмати учун» («За большие заслуги», 1999), «Эл-юрт хурмати» («Уважение народа и родины», 1999). За более чем 30-летнюю карьеру в боксе провел на ринге, в общей сложности, около двухсот поединков, из них 174 завершил с победным результатом. С 1971 по 1976 годы «ташкентский тигр» Рискиев был первой перчаткой Европы и всего мира во втором среднем весе (75 килограммов). В недавнем прошлом - вице-президент Федерации профессионального бокса Узбекистана, ныне – рядовой пенсионер (статус пенсионера союзного значения утерян в связи с обретением Узбекистаном независимости).
«Фергана»: - Руфат Асадович, мало кому известно, что этот судьбоносный для Вас и исторический для страны поединок на кубинской земле в 74-м мог и не состояться, если б не ряд обстоятельств. Можно об этом подробнее?
- Да, так уж легли карты, что для поездки на Кубу я был отобран в состав сборной команды Союза в числе одиннадцати сильнейших спортсменов. Однако до последнего момента было неясно, кто все же поедет на чемпионат – я или титулованный боксер-центрист Слава Лемешев. До этого, несмотря на то, что я побил его три раза, но на чемпионат Европы и Олимпиаду ездил именно он. Говорили, что все дело в его «крутом» тренере Юрии Радоняке. Поэтому я не особо удивился, когда, несмотря на мои победы в отборочных боях, проходивших в Кисловодске, на кубинский чемпионат подумывали отправить Лемешева. От обиды или разочарования я решил поставить об этом в известность своего наставника Бориса Гранаткина, которого называл отцом. Позвонив ему в Ташкент, я вкратце обрисовал безнадежную ситуацию, отрезав с обидой в голосе: «Я не еду!». «Жди, скоро буду!» - коротко выкрикнул Борис Андреевич. Будь в те времена сотовая связь, вопрос, возможно, решился бы, не сходя с места…
- И что, Гранаткин после этого разговора действительно сорвался в незапланированную поездку, будто речь шла о соседнем ташкентском квартале?
- Вы не знаете Гранаткина! В то время он жил как раз на Дархане, где была самая популярная касса по предварительной продаже авиабилетов. Тогда достать дефицитный билет на нужный рейс – это было нечто! Не знаю как, но ему удалось заполучить билет, и в считанные часы он уже был в гостинице Кисловодска – приехал в домашних тапочках на босу ногу! Его приезд был нашим последним шансом, и он его не упустил. Именно благодаря настойчивости Бориса Андреевича был организован звонок из узбекского ЦК партии в Москву – с требованием провести еще один проверочный бой (спарринг) на достойную кандидатуру - между мной и Лемешевым. Тренерам уже на месте было сказано: так, мол, и так, кто честно победит по результатам нового отборочного поединка, тот и поедет на чемпионат. Те, хоть и неохотно, но согласились.
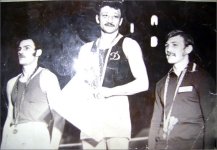 Во время этого спарринга я бил Лемешева, словно «врага народа», с остервенением, три раунда подряд, и долго еще потом не мог успокоиться. Накануне этой встречи (до начала чемпионата оставалось две-три недели), я оставил в своем дневнике одну краткую «историческую» запись: «Руфат, завтра у тебя – решающий бой. Если ты его [Лемешева] победишь, на чемпионат поедешь ты и обязательно станешь чемпионом!». Тем не менее, кандидатура Лемешева окончательно отпала лишь после того, как на следующий день после нашего спарринга его нокаутировал Николай Анфимов, известный самаркандский боксер-хулиган. Забегая вперед: мне еще удалось побить Славу позже, в 75-м, в Ташкенте.
Во время этого спарринга я бил Лемешева, словно «врага народа», с остервенением, три раунда подряд, и долго еще потом не мог успокоиться. Накануне этой встречи (до начала чемпионата оставалось две-три недели), я оставил в своем дневнике одну краткую «историческую» запись: «Руфат, завтра у тебя – решающий бой. Если ты его [Лемешева] победишь, на чемпионат поедешь ты и обязательно станешь чемпионом!». Тем не менее, кандидатура Лемешева окончательно отпала лишь после того, как на следующий день после нашего спарринга его нокаутировал Николай Анфимов, известный самаркандский боксер-хулиган. Забегая вперед: мне еще удалось побить Славу позже, в 75-м, в Ташкенте.- Известные люди нередко рассказывают о «вещих снах» и прочих предвестниках знаменательных событий. У Вас нечто подобное было?
- Знаете, в первый день чемпионата мне снился жуткий сон: будто бы я проиграл. Но я запретил себе его видеть, запретил даже думать об этом. Потом этот сон вернулся ко мне опять – уже после финальной игры. Я еще не раз просыпался, содрогаясь от того омерзительного проигрыша во сне, уже будучи в Ташкенте. Видимо, страх быть поверженным застрял в подсознании надолго…
- 17 августа 1974 года вошло в историю бокса как день открытия первого чемпионата мира среди боксеров-любителей. Вы хорошо помните день своего триумфа в Гаване?
- Разве такое забывается! Чемпионат шел две недели, я выходил на ринг пять раз, в финале одержал победу над румыном Алексом Нестаком. Помню, как первым до меня дозвонился с поздравлениями наш ныне покойный узбекский спортивный комментатор Эдуард Сергеевич Аванесов – он тогда работал на УзТВ, газетах «Советский спорт» и «Физкультурник Узбекистана».
До сих пор помню то волнительное состояние души, когда объявили победителей. Страшно болели кисти – они были сломаны в трех местах (из восьми переломов за долгую боксерскую карьеру три были получены именно там). Но мысль, что мы - представитель Ташкента Руфат Рискиев и Василий Соломин из Перми - стали в Гаване первыми советскими чемпионами мира, отгоняла физическую боль и усталость. Я выходил на ринг с одной-единственной целью – победить, и сделал это! Серебряными призерами чемпионата тогда стали Олег Каратаев и Борис Кузнецов.
 Сейчас вспоминаю с улыбкой, как, поздравляя, звезда бокса Геннадий Шатков довольно сильно сжал мне руку, и я едва не вскрикнул от адской боли. Шатков известен тем, что на XVII Олимпийских играх в Риме ему посчастливилось драться в полутяжелом весе с легендарным Кассиусом Клеем (под этим именем выступал ставший впоследствии абсолютным чемпионом мира среди профессионалов боксер Мохаммед Али).
Сейчас вспоминаю с улыбкой, как, поздравляя, звезда бокса Геннадий Шатков довольно сильно сжал мне руку, и я едва не вскрикнул от адской боли. Шатков известен тем, что на XVII Олимпийских играх в Риме ему посчастливилось драться в полутяжелом весе с легендарным Кассиусом Клеем (под этим именем выступал ставший впоследствии абсолютным чемпионом мира среди профессионалов боксер Мохаммед Али).Мои кисти до сих пор болят, особенно при ухудшении погоды. Мне до сих пор снится, как перед выходом на ринг мои руки обкалывают обезболивающим и бинтуют, затем надевают перчатки, прикрепив на них герметичную печать. Делается это для того, чтобы демонстрировать чистоту ладоней и помыслов: история бокса знает случаи, когда нечистоплотные спортсмены использовали в поединках запрещенную «свинчатку» для мощного удара.
- Говорят, после триумфальной победы Вас лично поздравил команданте Фидель Кастро?
- Мне доводилось видеться с Кастро и раньше, на чемпионате мира это была уже то ли четвертая, то ли пятая наша встреча.
В тот августовский вечер 74-го он шел мне навстречу в ресторане «Тропикано», где проводили банкет в честь победителей и гостей чемпионата. Увидев мои забинтованные руки, Кастро сочувственно покачал головой. Остановившись, произнес: «О, Руфат РиККиев!» (специфическое произношение по-кубински, когда сочетание русских букв «ск» в английском варианте воспринимается как «kk». – Прим. авт.), осторожно пожал мою правую руку, похлопал по плечу. Тогда он запомнился мне очень энергичным и молодым - лет 50 ему, наверное, было…
- В свое время Вам пожимали руку короли и президенты, о Вашей силе и стойкости ходили легенды, Ваше имя как первого узбекского чемпиона мира стоит в одном ряду с именами таких прославленных боксеров всех времен и народов, как Мохаммед Али, Джо Фрезер, Майкл Спинкс, Теофило Стивенсон, Ласло Папп, Борис Лагутин и другие. Расскажите немного о Ваших наставниках и о том, как начинался Ваш путь в мир большого бокса.
- Все началось с серьезного увлечения боксом моего старшего брата Алишера, а я за ним - как хвост. Долгое время он не хотел меня брать с собой, мол, мал еще, но потом согласился. Мне было лет одиннадцать, когда с мальчишескими грезами о грядущих победах я впервые перешагнул порог боксерского ринга. Моим первым тренером (с 1960 по 1963 годы) был известный в спортивной среде человек - Сидней Джаксон, который не уставал повторять, что «бокс начинается с беговой дорожки, скакалки и турника». И только спустя долгие месяцы мне довелось впервые примерить настоящие боксерские перчатки.
Я благодарен судьбе, что в начале своего становления как спортсмена-боксера мне посчастливилось работать под руководством трех замечательных наставников. Если начальные азы бокса мне преподал Сидней Львович, то фундамент школы настоящего бокса – заслуга Алексея Баранова, у которого я занимался до 1966 года (после печально известного ташкентского землетрясения он вынужден был уехать).
Потом стал тренироваться у потрясающего педагога Бориса Гранаткина, которого фанатично любил и до последнего называл своим отцом. Сегодня никого из них, к сожалению, уже нет в живых – Бориса Андреевича хоронил лично три года назад, он похоронен на Боткинском кладбище, в Ташкенте.
В конце 1965-го меня впервые включили в команду боксерской секции спортобщества «Буревестник», участвовавшую в первенстве города среди подростков. А уже через год, 26 апреля 1966 года (день в день, когда в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение), я стал победителем соревнований на первенство города по боксу. Старшие товарищи, наблюдавшие за моими боями, то ли шутя, то ли серьезно мне еще тогда напророчили заманчивые перспективы в боксе.
- Известно, что в 1968 году великий польский тренер Феликс Штамм, присутствовавший на турнире «Олимпийская надежда» и наблюдавший за Вашим победным поединком с кубинцем Сильвио Кесало, был потрясен Вашими бойцовскими качествами и настойчиво рекомендовал включить Вас в сборную команду СССР. Не ошибся, стало быть, «папаша Штамм» в своих прогнозах...
- Было дело (смеется). Такие рекомендации от легендарного Штамма дорогого стоили. Ведь это ему принадлежит фраза: «Боксер должен иметь горячее сердце, холодную голову, легкие ноги и только после этого – быстрые руки». Кстати, как раз в 68-м я выиграл первенство в Львове и стал чемпионом страны среди молодежи.
Наверное, не покривлю душой, если скажу, что мой рост как боксера все же связан с уже упомянутым Борисом Гранаткиным, который положил на алтарь победы все, что ему было дорого – время, интересы, нервы, силы.
Я очень ценил его труд и отцовское отношение ко мне и, перейдя во «взрослые бойцы» (это был 70-й год), был готов драться с кем угодно, где и когда угодно. И фортуна не заставила себя долго ждать: в декабре того же года на международном турнире в Югославии мне досталась золотая медаль.
- Руфат-ака, народная молва приписывает Вам множество вознаграждений и ценных подарков за ту блистательную победу. Говорят, в 70-е Ваше материальное состояние у многих вызывало зависть.
- Ерунда все это – я никогда не был и не умел быть богатым. За первое место тогда мне дали 1500 рублей – целое состояние по тем временам! А когда меня, 25-летнего молодца, у которого сбылась заветная мечта, по приезде на родину еще и представили к почетному званию «Заслуженный мастер спорта», я чувствовал себя истинно богатым и счастливым. А тут государство мне еще дарит квартиру и земельный участок! Правда, была еще возможность внеочередного приобретения автомобиля «Волга», да я не потянул - денег не хватило (смеется). Кстати, весь набор моих ценных наград, включая ордена, медали, кубки, перчатки и прочее, сегодня хранится в ташкентском Музее олимпийской славы, что на столичном массиве Урда.
- Когда Вы решили уйти с большого ринга и почему?
- Практически сразу же после XXI Олимпийских игр в Монреале в 1976 году, когда моим соперником в финале был будущий чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе американец Майкл Спинкс. Хотя тогда я был единственным в сборной команде боксеров, кто пробился в финал, но завоевал только второе место – рефери почему-то отказался возразить против запрещенного удара ниже пояса, нанесенного Спинксом. Я ушел сам, серебряным призером Олимпиады. Думаю, не последнюю роль в этом сыграла и накопившаяся за долгие годы физическая и душевная усталость, был еще ряд факторов, в частности, некая искусственно создаваемая изоляция, неизвестно, от кого исходящая... Я чувствовал, как меня стали «забывать» приглашать на значительные мероприятия, касающиеся бокса, встреч на уровне спортивных верхов становилось все меньше. Мне рассказывали, что когда летом 79-го в Ташкент приезжал прославленный Мохаммед Али, он сам вынужден был напомнить спортивным чиновникам – мол, давайте сюда вашего чемпиона Рискиева. Пришлось им «вспомнить» обо мне и доставить на встречу… Зато приятно, что всенародная любовь ко мне осталась – меня до сих пор останавливают на улице.
- Испытание славой – тяжелая ноша, не каждый ее может выдержать. У Вас, как и у многих публичных личностей, тоже были не только взлеты, но и падения.
- Я этого никогда и не скрывал. Был период, когда скромные праздники по поводу «встречи с чемпионом» плавно перетекали в долгие шумные гулянки. Период профессионального застоя совпал с неладами в личной жизни, я терял друзей, обзаводясь порой случайными попутчиками. Затем были клиники, сложная реабилитация, драматичный поиск своего второго «я». Несколько фильмов, снятых обо мне и с моим участием, в частности, художественная лента «На ринг вызывается» и документальная «На ринг уже больше не вызывается», - именно об этих контрастирующих отрезках моей биографии. В общем, оказалось, ничто человеческое мне не чуждо.
- Картина «На ринг вызывается» режиссера Эдуарда Хачатурова имела оглушительный успех. Помнится, в 1980 году на фестивале спортивных фильмов во Фрунзе, нынешнем Бишкеке, она заняла второе место. Однако Вы отказались от мира кино.
- Да, я даже получил приз за лучшее исполнение мужской роли. Я снимался еще в нескольких картинах, пока не понял – не мое это, каждый должен заниматься тем, что ему по душе.
- Если мне не изменяет память, Вам, вице-президенту Федерации профессионального бокса, посчастливилось даже войти в судейскую секцию WBA (Всемирная боксерская ассоциация) и стать первым судьей международной категории в профессиональном боксе в странах Центральной Азии. Что это дало узбекскому боксу?
- Это произошло после того, как в октябре 1997 года президент WBA вручил представителям профессионального бокса нашей страны сертификат о том, что наша федерация стала действительным и регулярным членом этой авторитетной международной организации.
Надо сказать, что профессиональный бокс в Узбекистане в девяностые годы делал еще только первые шаги, хотя в целом наша национальная школа бокса занимала неплохие позиции. Хорошо понимая, что профессиональный бокс не может и не должен замыкаться в рамках одного города или даже страны, наша команда приложила все силы, чтобы сделать его интересным не только для зрителей, но и для спонсоров. То есть, узбекские бойцы-профессионалы должны были иметь возможность встречаться с сильнейшими коллегами из зарубежных стран. Поскольку у нас не было достаточного опыта организации соревнований профессионалов, как и бойцов соответствующего уровня, начинать приходилось практически с нуля.
Мне кажется, тогда общими силами нам удалось наладить пошатнувшиеся связи с организациями профессионального бокса других стран - России, Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии и других, что уже было немалым достижением.
* * *
Сегодня «ташкентский тигр» на заслуженной пенсии. Правда, еще три года назад пенсия знаменитости составляла всего 82.800 сумов ($36), но благодаря заботам его родственников, друзей и добросовестных сотрудников Министерства культуры и спорта и райсобеса удалось добиться перерасчета пенсии в сторону повышения. Спасибо московским архивариусам, которые помогли восстановить утерянные здесь архивные документы о трудовой деятельности экс-чемпиона. Во многом помог и продолжает помогать Рискиеву не безразличный к судьбам спортсменов глава НОК Мираброр Усманов, который преподнес царский подарок в виде ремонта дома.
В последние годы Руфат Асадович перенес несколько сложных операций «на глаза и ноги», много лет уже ведет здоровый образ жизни, употребляя из крепких напитков разве что двойной крепкий кофе. Любит разгадывать кроссворды, «строчить» анекдоты и байки на все случаи жизни, радовать детвору раздачей сувениров и подарков. И, конечно же, рассказывать о своем любимом боксе.
Международное информационное агентство «Фергана»
Фото «Фергана»